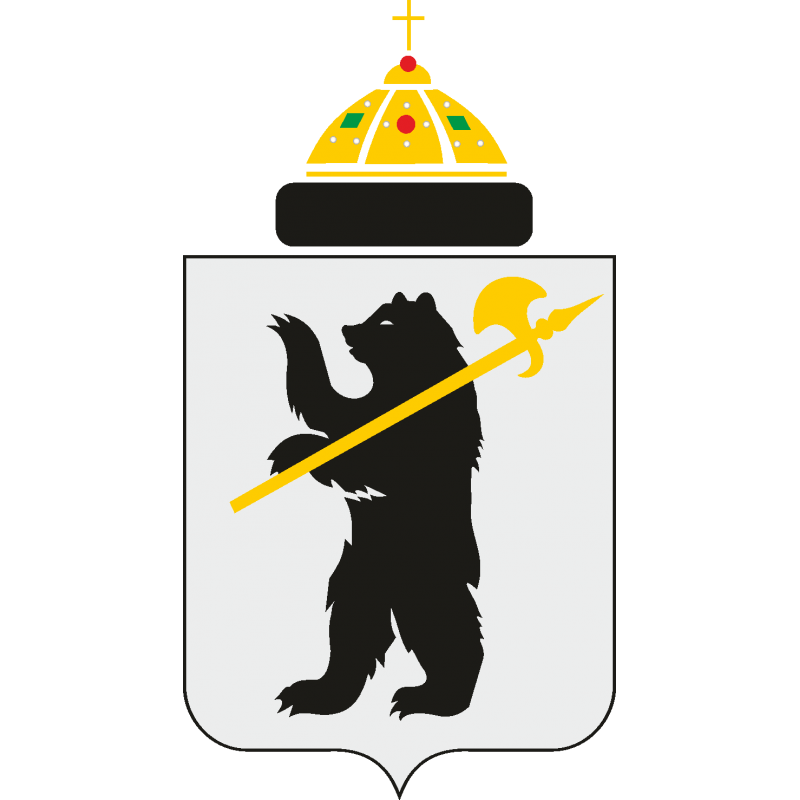Тугова Олисава Владиславовна
Родилась в 1985 году в Рыбинске. Закончила ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
магистр филологии. Работала в газете «Рыбинские известия» (2009-2013).
Член Союза писателей России с 2020 года. Участник Межрегионального
совещания молодых литераторов в Ярославле (2018, 2019), молодёжного арт-
форума «Таврида-2019», Всероссийского совещания молодых литераторов в
Химках (2019, 2020, 2021), Международного форума молодых писателей
России, стран СНГ и зарубежья в Ульяновске (2019), в Москве (2021)
Фестиваля им. Анищенко (Самара, 2020). Куратор Рыбинского отделения
Совета молодых литераторов. Лауреат премии «Золотое перо Руси» (2019, за
книгу «Когда поёт Лис»). Заместитель главного редактора литературного
журнала «Причал» по работе с молодежью. Публикации в литературных
журналах. «Юность», «Дон», «Симбирск», «Веретено», «Бельские просторы»
и других.
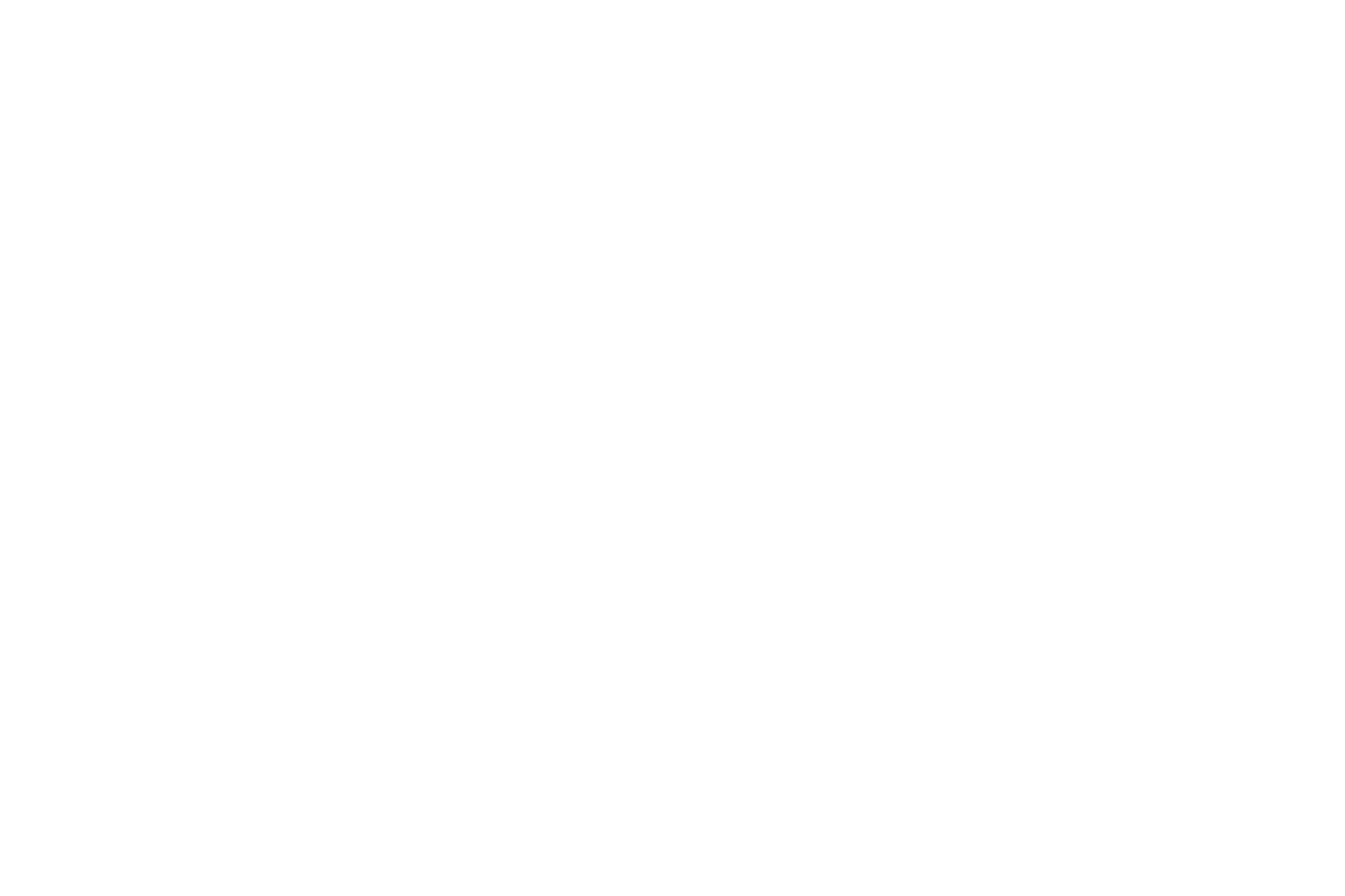
Уфа обетованная (рассказ)
Старший сержант Яковлев лежал, закинув ноги в берцах на мутно-железную дугу казарменной койки. Слушал музыку, воткнув в одно ухо наушник, похожий на крошечное свиное рыльце. Среди потока песен в его mp-3 плеере была одна, которую он особенно ждал, улыбался, при первых аккордах, поглаживал пальцами, будто она лежала у него на ладонях, как золотая, гибкая рыбка, а затем отпускал снова в говорливый и бессмысленный музыкальный ручей. Сержант не знал, куда нужно нажать, чтобы слушать песню на повторе, она тут же уходила в глубину и только случайно, повинуясь автовыбору, могла оказаться у него на ладонях. Он ждал этого момента, улыбался по-детски и скрипуче покачивал носком армейского ботинка.
Хочешь, клин журавлей в небе русских полей
Или солнце аллей подарю тебе, Верка, на память.
Или хочешь закат, а нет, лучше – зарю -
Просто так, наугад, подарю тебе, Верка, на память. («Любэ»)
Своей Верке он был готов отдать всё, что угодно, но у него имелись только плеер, гитара да потрепанный кнопочный мобильник, в котором жила "аська". И ещё Веркины фотографии, присланные ему в письме и приколотые теперь кнопками на дверцу тумбочки. Девушка с длинными и тонкими волосами цвета высохшего на степном ветре камыша держала ветку сирени, лепестки прижимались к её чуть покрасневшей щеке - четыре или пять - не рассмотреть даже зоркому снайперу. Объектив фотографа остановил её, танцующей у берега, волна реки обвилась вокруг коленей. Река Белая, белая, гибкая Вера, белый, солнечный день.
- Яшка, выдвигаемся! - старшего сержанта звали Андрей, но боевой отряд военной разведки окрестил его Яшкой. Он не возражал, даже был доволен, его прежнее имя, данное в детском доме, казалось ему ненастоящим, казенным, формальным, каждого второго пацана его возраста обязательно звали Андрей, Саша, Леша… Даже можно на спор угадывать.
А "Яшка" - это только он, белобрысый улыбака, с редким, задорным чубчиком невесомых волос, с выгоревшими бровями и ресницами, с круглой, лобастой головой на широкой шее, крепко сбитый, маленького роста, но точный, пружинистый и быстрый. Поэтому теперь он всегда так представлялся, когда знакомился - Яшка. Старший сержант был Яшкой и для Веры. Вера знала, что после срочной службы он остался на Северном Кавказе по контракту просто потому, что ему некуда вернуться.
Толстые подошвы берцев затопали по "взлетке". По карманам «лифчика»-разгрузки давно рассована мелкая снаряга, лязгнула решетка оружейки, на плечо привычно лег ремень СВД.
Эх, Верка-Верка, как ты там в своей Уфе? Не грусти, Верочек, Верушка-зверушка, всё путём.
В горах осень, дожди замесили в жидкую кашу пыль разбитых дорог. Воздух казался твердым и необычно прозрачным, как пуленепробиваемое стекло. Колонна БТРов урчала на склоне. Яшка сидел на нагретой броне как положено - одной ногой в люке: и внутрь соскользнуть недолго, и выпрыгнуть. Подставлял круглое лицо ветру. Ветер пыхтел в ушах:
- Уффаа! Уффаа!
Яшка никогда не был в Уфе, Уфа казалась сказочным, волшебным местом. Землёй обетованной, там жила Вера в своей холодной, пахнущей сыростью, квартире в старом, двухэтажном, аварийном доме на улице Шота Руставелли. Кто такой Шота Руставелли Яшка не знал, и это имя было его молитвой - самой верной и действенной в своей непонятности. На Вериных окнах цвели фиалки, а за белыми, деревянными рамами, исцарапаными шелушащейся сеткой морщин, старый тополь ловил кривыми, узловатыми пальцами то дождь, то снег, то солнечные лучи.
Яшка представлял, как он подойдёт к дому по улице, усыпанной тополиными листьями, ломкими, сухими, темно-пятнистыми, пахнущими куркумой и анисом. Осенние листья сменялись в мечтах клейкими тополиными липучками, потом - жёстким июльским пухом, а потом снова превращались в листья и исчезали под снегом. У Яшки был контракт, и он не мог приехать. Зато, замерев камнем на снайперской точке, он сливался с бетонными нозревато-выпуклыми стенами или с гладкими, ненадёжными скалами, упирался локтями, коленями, застывшими пальцами, грел тёплой щекой холодный приклад и снова и снова мысленно подходил к дому Веры, открывал тяжелую, разбухшую, скрипучую дверь, слушал, как натягивается ржавая пружина, как она беззлобно хлопает за его спиной. Поднимался по кособокой лестнице, считая каждую ступеньку - мимо почтовых ящиков, темно-зеленых, ощерившихся разбитыми ртами. Только один был целым, на нем висел маленький серебристый замок, сюда приходили Яшкины письма в ладных конвертах с красной полосой и надписью – «воинская корреспонденция». Яшка обычно ненадолго останавливался, разглядывая белое, бумажное через круглые дырочки и поднимался дальше, там за одной из дверей его ждала Вера, сидела за ноутбуком, окруженная кошками, поглаживала их теплые шерстяные спины, трогала носком ноги черный, лоснящийся бок остроухого добермана, похожего на настороженного каймана. И Веру, и дом, и Яшку обнимала волшебно-добрая Уфа.
- Уффа! Уффа!
- К бою! - захрипели, зашелестели динамики.
Яшка спрыгнул с брони, блеснула оптическим прицелом СВД, БТР пророкотал дальше, дал несколько залпов. Группа разведки рассредоточилась, слилась с камнями, стала подниматься выше, Яшка нашел удобный выступ, поймал внизу в прицел одну согнутую спину, другую… Помочь пацанам.
- Чайка, прием. Отставить. Выполнять приказ. Следуй за группой.
- Чайка на связи. Принято.
Чайка - это тоже Яшка, позывной и неряшливая, скандальная птица. Мозгоклюйная, как говорил Яшка.
- Вера, так не бывает, это бред, - набирал бывало сообщение старший сержант, давил на кнопки так, будто хотел сломать старенькую мобилу, - нельзя влюбиться в аватарку в социальной сети, в никнейм. Я ж не видел тебя никогда, не знаю, какая ты…
В пьяном угаре хохотали сослуживцы, вернувшиеся с задания, подливали размякшему Яшке, хлопали по спине, заглядывали на тусклый, разбитый экранчик:
- Братуха, да в натуре! Может, это и не баба совсем, может мужик твоя Вера.
И Яшка сжимал в кулаке телефон и набирал Вере обидные слова-подозрения.
Она отвечала грустно и обреченно:
- Яшенька, я не настоящая для тебя, не реальная. И если бы мы с тобой сидели за одним столом, не стала бы ближе. Ты в голове образ придумал и любишь его. А это не я, это просто образ.
- Да не люблю я! Я не умею, - психовал Яшка, - Какая там любовь, если я могу сдохнуть каждый день. А тебе будет больно.
Маленькая, полосатая кошка Мурка прыгала к Яшке на колени, мявкала хрипло, топталась мягкими лапами. Её прикормили в столовой, но спать она приходила в казарму, непременно на Яшкину койку, радостно бежала к нему через весь плац, если случалось им встретиться на улице, и верно ждала из боевых командировок, не перебираясь ни к кому другому. Вера не могла стать серенькой Муркой, чтобы прижаться к Яшкиному животу и счастливо замереть.
- Если ты погибнешь, я умру вместе с тобой, – писала Вера.
Яшка ярился, скидывал кошку, впечатывал в стену мобилу. Падал лицом на сложенные руки и рычал:
- Я приеду, Вер, я приеду!
Но не мог. И только злее вливал в себя шило, так, чтобы раздиралось нутро, дурманился мозг, забывались лабиринты сложных слов и чувств.
И ему мерещилась Вера, ведущая на поводу серого жеребца, купающая его в реке Белой. В реке отражались розовые крылья облаков.
- Да врет она, нет у нее никакой лошади. Это офигенно дорого, где она ее держит - на балконе? - смеялись над Яшкой сослуживцы, - она тебе вообще все врёт. И про операции свои врет. На эмоции давит, чтобы с крючка не соскочил, а ты, как дурак, ведешься. А ведёшься потому, что жизни не знаешь. Ну, что ты видел, кроме детдома? Поэтому лучше нас послушай, забей на эту Верку и не парься. Скоро еще денег будет просить, на лечение.
Яшка зверел, разбивал в кровь кулаки о стену, метался и выл, когда Вера писала про болезнь и лечение, на которое уходят все деньги. Потом доставал гитару и терзал ее, пытаясь сыграть ту нежную песню, про Веру, не справлялся и играл привычное, армейское, про пулю-дуру, про несчастную любовь. И разведчики ему подпевали.
Группа цепью уходила наверх, в туман. Как погребальные свечи в нем горели маленькие, кривые деревца. Здесь ещё зеленели пучки травы, висели дряблые, убитые ночным заморозком листья и можно было пробраться, не наследив. В местах повыше сыпал снег. Сквозь туман, как нарисованные акварелью, прорывались то застывшая на заскорузлом ремне рука, то потемневший узел банданы, то сырой приклад, то ботинок с налипшими комьями глины. Горы ждали, они обступили группу и смотрели сверху, как стая ворон.
- Чайка, прием. Найдёшь себе точку в этом радиусе. Они придут - пропустишь на нас всех и отрежешь, чтобы не разбежались.
- Принято.
Группа ушла, а Яшка остался. Загремел берцами вбок, вдоль гряды. Залез за валун над сердитой, пенистой речушкой. Встал на колени. Щёлкнул сошкой, укладывая винтовку, чтобы не соскользнула на мокром, шмыгнул носом, пошевелил покрасневшими пальцами в тактических перчатках, лег, упер приклад в плечо, примерился к прицелу, поводил стволом из стороны в сторону. Пошел дождь, зашлепали холодные капли, они оставляли на щеках следы, как слизни.
Яшка подумал про Уфу, стало теплее. Город будто укрыл маленькую черную точку в туманных горах Кавказа большими крыльями огней, река Белая текла спокойно, ее струи сплетались в Верины косы. Он приедет и обязательно напишет рапорт на отпуск. Вдох. Выдох. Медленнее.
Потыркался, пошуршал в эфире, поймал несколько исковерканных русских фраз и замер:
- Снайпер. Один. Погасить. Не дать обнаружить.
«Отче мой Истинный, на Тебя Единого уповаю и молю Тебя, Господи, лишь о спасении души моей, да будет воля Твоя Святая укреплением моим на пути сиём».
Они увидели сержанта раньше, чем он их. В Яшкином прицеле мелькнул длинный, сухой бородач, похожий на богомола. Боевик был одет в уставную камуфляжную куртку федералов. Богомол махнул рукой в сторону снайпера. За камнями цепью шевельнулось ещё несколько фигур. Рация шипела по-змеиному, связи больше не было. Яшка выругался и стал отползать назад, выше, выше, за один камень, за другой. Кто выше, тот видит больше, камни качались, скрежетали. Яшка перепрыгивал с одного на другой, горы скрипели зубами. От страха пробежала судорога по ногам, когда нырнул за большой булыжник. Притаился. Снова покрутил мертвую рацию. Глушат. Идут, окружают. Поймал в оптический прицел длинного. Выстрел. Перезаряд. И мерцающие лучи со всех сторон скрестились в одной маленькой живой точке. Оглохший Яшка замер и снова вскинул винтовку. Во рту было солоно, будто он лизнул разделочный нож. Прицел дрожал.
Огонь. Перезаряд. Огонь. Как вдох и выдох. Ночь и день. Небо и земля. Всё смешалось. Яшка барахтался и тонул в разнокалиберном звуке смерти. Видел вспышки через закрытые веки. Дышал. Кровь лилась стремительными толчками. У-фа. У-фа.
***
Закипал чайник. Мама ждала свою девочку домой. Выглянула в окно. Вера медленно шла по тоннелю из света фонарей. Маленькая золотистая девочка в чреве большой Уфы. Она всегда ходила быстро, торопилась из конюшни, возвращалась пропахшая конским потом, с соломой в волосах. Домашняя звериная братия бросалась к ней, требовала ласки. Вера обычно отмахивалась от них, садилась за ноут, кусала губу от боли, старалась перетерпеть, чтобы без укола, и спрашивала у того мальчика в далеких горах, как прошёл его день, любит ли он землянику, какую песню он сейчас слушает… « У меня так сердце колотится, я тебя жду-жду, каждого человека в форме принимаю издали за тебя, пугаюсь и радуюсь - вдруг это ты приехал…».
Под тополем Вера остановилась и посмотрела наверх. Там висели темные осенние тучи. Из них посыпались редкие колючие иголочки первого снега.
(опубликовано в журнале «Бельские просторы»)