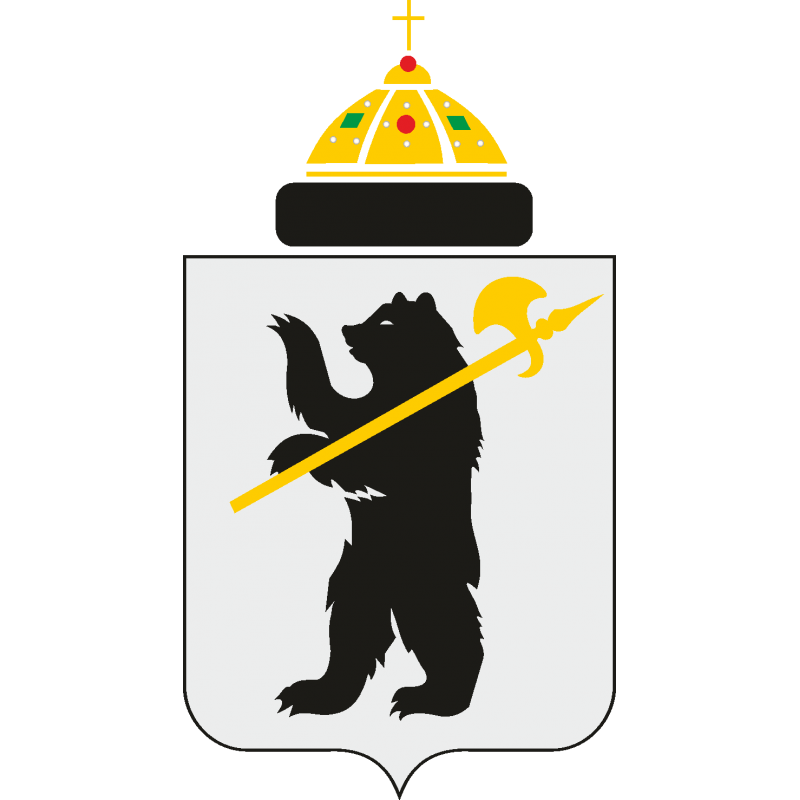Хорина Виктория Дмитриевна
Родилась и живу в городе Рыбинске Ярославской области. Член СМЛ города Рыбинска с 2018 года. Участник Всероссийского семинара молодых литераторов в Химках в феврале 2020 года. Пишу в основном зарисовки и рассказы, периодически замахиваюсь на крупную форму, но она меня пока боится.
Родилась и живу в городе Рыбинске Ярославской области. Член СМЛ города Рыбинска с 2018 года. Участник Всероссийского семинара молодых литераторов в Химках в феврале 2020 года. Пишу в основном зарисовки и рассказы, периодически замахиваюсь на крупную форму, но она меня пока боится.
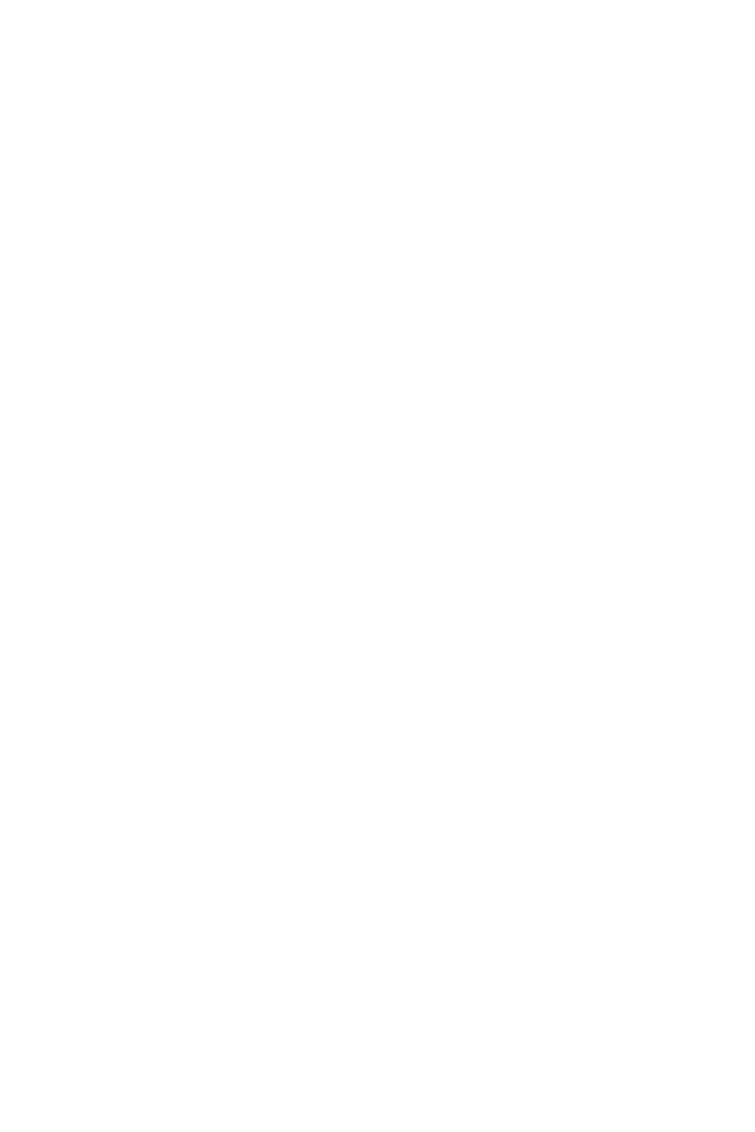
виктория хорина
Кофе (рассказ)
Низкий звук, похожий на гул самолета, медленно проплыл за правым ухом. Вялая муха, невесть откуда появившаяся зимой, лениво описала широкую дугу, рухнула в стакан с водой, несколько раз панически дернула крылышками и затихла.
В голове у Севы эхом отдавалась звучащая у соседей музыка: басы, ползущие по стенам, передавались жесткому дивану и пробирали до хребта, до каждой косточки в распластанном теле. Решительно не хотелось двигаться; в воздухе привычно уже витали запахи мандариновых корок и выдохшегося за ночь шампанского. Вторая бутылка, кажется, так и не успела опустеть, когда Севу сморило. Он пошарил рукой на полу и подхватил пальцами прохладное горлышко.
Шампанское было дешевым и кислым. Пузырьки оно оставило в прошлом году.
За окном медленно валились комочки влажного снега. Безветренно; поток слипшихся снежинок был направлен строго вниз, не отклоняясь ни на градус.
Рутина обступала Севу уже несколько лет, сжимая кольцо привычных обязательств и радостей, превратившихся в ритуал. Скука, ску-ка – все вокруг источало ее, сквозило ею от стоптанных ботинок, от старого пуховика и пропахшего табачным дымом салона "пятнашки", от каждого столба по дороге на надоевшую работу. И даже вечером не было спасения – одни и те же шоу по телевизору, один и тот же диван, одни и те же тапочки. Одно и то же пиво, как последняя попытка заснуть в хоть каком-нибудь настроении, отличном от серого безразличия ко всему и сразу. Безрезультатная, привычная своей бесплодностью попытка.
Когда было не так?.. Должно быть, в юности. Да, лет пять назад, когда все это казалось новым и ярким, неизведанным. Когда сбежать посреди ночи в бар на другом конце города было легко и почти необходимо, когда на работе ждала не скука, а запары, сложности и идиоты, после встречи с которыми так приятно пропустить пивка с коллегами в том самом баре. Что изменилось? Да ничего, кроме отношения к происходящему. Нестерпимо надоело.
– Так и лежишь? – послышался скрипучий, надломленный голос отца.
Сева не удивился.
– Лежу, – глухо ответил он.
– Ну лежи, лежи, – вздохнул отец. Тапочки зашаркали по полу: Севе не нужно было видеть отца, чтобы знать каждое их движение.
Даже не так: он боялся, что откроет глаза и ничего не увидит. Ни шаркающих тапочек, ни серых домашних брюк, ни наброшенного на футболку полосатого халата. Папы нет уже пять лет. Этот сон всегда снится Севе утром первого января, и даже он успел стать скучным и рутинным.
– Кофе будешь? – послышалось с кухни.
Сева резко открыл глаза. Этого продолжения он не помнил. Говорят, если покойник зовет на кофе – скоро последуешь за ним; кажется, бабушка говорила, что дед зовет ее. А на следующий день позвонила сиделка и сказала, что бабушки больше нет. Можно ли хотеть собственной смерти? Сева не знал этого, но ощутил, что не боится ее. Будто бы давно уже мертв, и лишь по инерции опустевшее тело продолжает ходить на работу. Значит, если отец зовет, можно и подняться с дивана. Хотя бы во сне посмотреть на него, а дальше будь что будет. Смерть? Хоть какое-то разнообразие.
– На вот, с молочком. Святое дело после бурной ночки, – по комнате поплыл запах свежезаваренного кофе. Отец сел на свое любимое кресло и поставил две чашки – одну с кофе, другую с травяным чаем, на журнальный столик. Его чай не пах совсем ничем, а вот кофейный аромат отчетливо щекотал ноздри, побуждая немедленно сесть на диване и взять в руки теплую кружку.
– Быстро ты, – удивился Сева, с удовольствием втягивая забытый аромат хорошо сваренного напитка.
Сам он тоже неплохо варил кофе, но так, именно так, как у отца, никогда не получалось. Дело было в особенном оттенке аромата, в тонкой ноте вкуса… а может, в строгой температуре, к которой напиток приближался после добавления прохладного, но не ледяного молока? Сева пробовал все, но именно такой кофе никогда не получался.
– Быстро, да не быстро, – вздохнул отец, прихлебывая слабый чай из своей чашки. – Пять лет пришлось ждать.
Сева поперхнулся кофе.
– Что? Не ожидал, что я знаю?.. Да, я знаю, что умер. Знаю, что прошло уже пять лет, Севка, – отец улыбнулся. От молодых еще глаз лучиками разбежались тонкие морщинки. – Только вот упокоиться никак не получается.
Сева молчал. Слушал, попивая кофе: вкус и аромат напитка казался совсем настоящим, горечь, смягченная молоком, не обжигала языка, но бодрила и будто бы придавала сил. Совсем натурально, совсем по-настоящему – как если бы напиток существовал на самом деле, а не был плодом беспокойного полусна. Будто бы отец и правда сейчас сидит перед ним, хитро прищурившись, а не остался где-то в нормальном, живом Севином прошлом. Отец вдруг рассмеялся.
– Что? Как живой, а? Так я такой почти и есть, Севка. Настоящий, хоть и не очень живой. Ты пей, пей. Хороший кофе получился.
– У тебя он всегда отличный. Самый лучший, – Сева отставил чашку. – Но если не сон, то, значит...
– Не-не, – отец отставил чашку и замахал руками. – Ты не помер, не помер. Хотя если б и помер, никто бы не заметил. Живешь как леший в глухой чаще! – он развел руки в стороны, как бы показывая на выцветшие обои на стенах, давно не стиранные шторы и скромно примостившуюся в углу кучку несвежих носков. – Грибы на голове еще не растут, а? А если проверю?
– Так нормально же живу, – неожиданно для себя обиделся Сева. Ощущение уязвимой юности возвращалось и почему-то радовало. Вместо уставшего от жизни работяги он снова, хоть на какое-то время, но становился молодым парнем, недавно закончившим вуз. – Пылесошу, вон. И носки стираю, просто...
– Просто лень до ванны нести, да? Ох, Севка... мамка бы тебе быстро пояснила, куда носки кладутся, – отец вздохнул. – Ну, рассказывай, как докатился до жизни такой?
– Какой – такой?
– Вот такой, – он снова развел руки в стороны. – В квартире будто зверушка какая живет, а не мужик. Когда последний раз девушку приводил?
Сева вспомнил Татьяну, которая съехала четыре года назад. У нее были блестящие красные сапоги и родинка на правой лопатке, больше ничего о ней вспомнить не получалось. Он нахмурился и попытался вспомнить кого-то еще, но ничего, ни единой интрижки за последний год не вспоминалось. В потоке серых дней не находилось времени на поиски любви, да и желания на это уже давно не возникало. Признаваться в этом отцу было обидно.
– Вот, и я о том же. С друзьями не видишься, ничем не увлекаешься, ничем не занимаешься... Сына, ты так точно плесенью покроешься. И постареешь раньше срока.
– А когда увлекаться-то? Времени хватает только на работу и сон, – Сева сделал еще глоток кофе. – Прихожу в семь, в девять ложусь, к шести утра...
– Ну вот хоть книжку бы почитал, все лучше, чем киснуть перед телевизором, – отец усмехнулся. – Или хоть бы с интересом кис, так нет же: уставишься в экран, полторашку пива всосешь – и на боковую! Хрень это, Сева. Хрень, а не жизнь.
– Нет у меня другой, – обреченно отозвался Сева. Ощущение безнадеги, отступившее было, снова навалилось на него ватным телом, выдавливая все эмоции до последней. – И не будет уже. Не из тех я людей, которые...
Слово сорвалось с языка, беззвучно и беспощадно повисло в воздухе.
– Которые живут? Не смеши меня, – отец улыбнулся так, будто все-все знает заранее, включая содержание текущего разговора, но из вежливости позволяет Севе произносить свои реплики самостоятельно, хоть и не до конца. – Ты из людей, всем людям положено жить. А существовать вместо этого никому не положено.
– Если не существовать, жить тоже не получится, – Сева пожал плечами.
– Не паясничай, умник! Ты меня понял, – отец допил чай. – Вот что такое, по-твоему, жизнь?
Сева пожал плечами.
– Ну, противоположность смерти, в одном смысле, – отец загнул палец, внимательно глядя на Севу. Тот запнулся и отвел глаза, чтобы продолжить говорить. – В другом смысле противоположность неживому. В смысле, камню, например. Органика, во! Что там еще...
Больше ничего в голову не шло.
– Жизнь человека – его первейшее сокровище, Севка. И также главный инструмент, и самое важное занятие. Жить – твоя обязанность самим собой. Ты себе обязан. И жить надо полноценно. Ну или, хотя бы, с удовольствием.
Сева бросил взгляд в окно. Тяжелые комочки влажного снега, вопреки законам гравитации, зависли в воздухе. Летевший мимо голубь застыл, широко раскинув крылья, но тоже не собирался падать или двигаться с места. Почему-то это совсем не удивляло.
– Вот что тебе нравится? – спросил отец.
Сева пожал плечами и взглянул на него.
– Кофе, – бросил он. – Обожаю кофе, пап.
– Ну так за чем дело встало? – отец всплеснул руками. Широкие рукава халата покачнулись и сползли почти к локтям.
Руки у отца были такие, какими их помнил Сева – тонкими, сухими и болезненно-бледными. Двигался отец, однако, резвее и увереннее, чем когда-либо на его памяти. Будто в гриме едва живого мужчины, перенесшего инсульт (и умершего вскоре от второго) перед ним сидит его собственный ровесник, здоровый мужик лет тридцати.
– Кофе стоит денег, – Сева хмыкнул. – А деньги нужно зарабатывать на работе.
– И...
– Ну, я и работаю, – Сева пожал плечами.
– А кофе при этом много пьешь? – хитрая улыбка растянула потрескавшиеся губы.
Сева опустил взгляд, спрятал его на дне чашки, где-то в тонком слое кофейной гущи, оставшейся от любимого напитка. Отец беззлобно, даже понимающе усмехнулся.
– Вот, и я о том же. Себя нужно хоть чем-то радовать, сын. А ты этого не делаешь, вот и существуешь в четырех стенах, отшельником. Как забытый миром пенсионер. В тридцать-то лет!
– Я и так забытый всем миром, – неожиданно для себя огрызнулся Сева. – Никому не нужный. И мне тоже никто не нужен.
– Вот что я такое, Сев? – неожиданно спросил отец.
Он сложил руки на груди и выжидающе уставился на сына. Взгляд у него был хитрый, будто бы единственно возможный ответ, который Сева может дать, будет правильным. Для отца. В Севе взыграло чувство глупого, подросткового, тысячу лет как забытого протеста: захотелось сказать что-то другое, извернуться, чтобы избежать заготовленного предком нравоучения.
– Выглядишь как батя, а на деле – мой собственный похмельный сон.
– Ну, а раз так, то кто говорит через меня? – отец прищурился.
– Мое похмельное сознание?
– Твое сознание, сын. Ты сам устал так жить, вот и придумал этот разговор.
Дурацкая вера в чудо погасла. Фраза, сказанная отцовским голосом, заставила испариться без следа ощущение тепла в пальцах от чашки, кофейный вкус на языке и даже собственно образ отца будто бы поблек и выцвел. Он, чуть смазанный, оставшийся вне фокуса, замахал руками, привлекая внимание Севы.
– Эй, подожди ты, Севка! Дай хоть договорить, погоди просыпаться!
– Зачем? – бесцветно спросил Сева. – Я же сам тебя придумал. Я и так знаю все, что ты можешь мне сказать.
– Спорим? – расплывчатая фигура в отцовском халате сложила руки на груди. – Ну так слушай сюда. Сегодня ты встанешь с кровати и сделаешь зарядку. А потом позвонишь на работу и скажешь, что увольняешься.
– Если что?..
– Если она будет здесь, когда ты проснешься, – смазанная рука указала на теплую чашку с кофейной гущей. – Ну так что, спорим?
– А жить я на что буду?
– Сделай это для меня, Сев. Просто иди и сделай. Спор есть спор. Договорились?
Сева пожал протянутую руку, готовую вот-вот потерять всякие очертания. На ощупь она оказалась совсем как отцовская, еще давно, до болезни – сухая, крепкая, мозолистая.
– Ну давай, – фигура поднялась с отцовского кресла и пошаркала в сторону кухни. – А я прослежу, чтобы...
Сева открыл глаза.
За окном медленно падали крупные комья влажного снега. Дурацкая идея – увольняться. Жить-то на что тогда? Тем более, должность приличная, по специальности. Куда идти тогда, в баристы? Да кому он там нужен, с кислым-то лицом, с руками, ничего тяжелее компьютерной мышки не державшими. Ерунда. Бред.
Помимо своей воли Сева повернул голову туда, где обещана была кофейная чашка. Он запомнил ее: керамическая, с маленьким сколом над ручкой. И кофейная гуща на дне, ровным тонким слоем. И...
Она была там. На столике. Теплая на ощупь, с тонким слоем гущи, с ароматом того самого, правильного кофе. Что-то будто щелкнуло внутри; Сева подскочил, засуетился и принялся прикидывать, что же делать теперь, когда спор с мертвым отцом окончательно проигран. Позвонить начальнику, Семенычу, и уволиться?.. сколько там накопилось на зарплатной карте за пять лет сверхэкономного затворничества?
Должно хватить на курсы барист. И на жизнь на время их прохождения.
От нетерпения дрожали пальцы; Сева протараторил Семенычу "хорошие" новости, едва не сходя с ума от нетерпения, пообещал забежать после выходных за вещами и тогда же подписать заявление "по собственному", отрицательно ответил на просьбу, предложение и гневный приказ передумать, даже когда зарплата за несколько минут разговора выросла в полтора раза. Снедаемый нетерпением, он, возможно, единственный во всем мире ждал окончания праздничных выходных, отмывая квартиру, смазывая скрипучие дверные петли, перестирывая накопившиеся вещи… Отмылся, побрился, сходил в парикмахерскую. На курсы пятнадцатого января отправлялся совершенно другой человек: он начистил новенькие ботинки, поправил аккуратное зимнее пальто и решительно шагнул за порог. Это был не тот Сева, что существовал последние пять лет – он снова почувствовал себя живым. И чертовски, постоянно, невероятно занятым.
В голове заела какая-то глупая песенка; Сева машинально напевал ее себе под нос, ковыряя ключом замочную скважину. И совершенно внезапно среди воодушевленных, безумно радостных мыслей возникло непрошенное воспоминание.
Кофе. Та чашка, с которой все это началось, та, на которую он спорил с отцом. Это же он сам себе и налил! Он, сквозь сон, машинально поднялся с кровати и пошел на кухню, все еще «беседуя» с отцом. Сварил кофе, налил в чашку, выпил… и только тогда проснулся. И счел, что чашку принес дух отца! Каким же он был идиотом! Нет никакого обещания, никакого спора не было. Все это – результат дурацкого похмельного сна.
Стабильная работа по специальности, хорошо знакомый маршрут до затертого офисного здания, даже стоптанные ботинки и старый пуховик остались в прошлом. Может, позвонить Семенычу, попроситься назад? Он, вроде, хотел повысить Севе зарплату. А ботинки, возможно, все еще стоят возле мусорного ящика – можно забрать их обратно, хорошие же еще, хоть и порядком стоптанные…
«Ну уж нет», – решил Сева. И уверенно повернул ключ в замочной скважине.
В голове у Севы эхом отдавалась звучащая у соседей музыка: басы, ползущие по стенам, передавались жесткому дивану и пробирали до хребта, до каждой косточки в распластанном теле. Решительно не хотелось двигаться; в воздухе привычно уже витали запахи мандариновых корок и выдохшегося за ночь шампанского. Вторая бутылка, кажется, так и не успела опустеть, когда Севу сморило. Он пошарил рукой на полу и подхватил пальцами прохладное горлышко.
Шампанское было дешевым и кислым. Пузырьки оно оставило в прошлом году.
За окном медленно валились комочки влажного снега. Безветренно; поток слипшихся снежинок был направлен строго вниз, не отклоняясь ни на градус.
Рутина обступала Севу уже несколько лет, сжимая кольцо привычных обязательств и радостей, превратившихся в ритуал. Скука, ску-ка – все вокруг источало ее, сквозило ею от стоптанных ботинок, от старого пуховика и пропахшего табачным дымом салона "пятнашки", от каждого столба по дороге на надоевшую работу. И даже вечером не было спасения – одни и те же шоу по телевизору, один и тот же диван, одни и те же тапочки. Одно и то же пиво, как последняя попытка заснуть в хоть каком-нибудь настроении, отличном от серого безразличия ко всему и сразу. Безрезультатная, привычная своей бесплодностью попытка.
Когда было не так?.. Должно быть, в юности. Да, лет пять назад, когда все это казалось новым и ярким, неизведанным. Когда сбежать посреди ночи в бар на другом конце города было легко и почти необходимо, когда на работе ждала не скука, а запары, сложности и идиоты, после встречи с которыми так приятно пропустить пивка с коллегами в том самом баре. Что изменилось? Да ничего, кроме отношения к происходящему. Нестерпимо надоело.
– Так и лежишь? – послышался скрипучий, надломленный голос отца.
Сева не удивился.
– Лежу, – глухо ответил он.
– Ну лежи, лежи, – вздохнул отец. Тапочки зашаркали по полу: Севе не нужно было видеть отца, чтобы знать каждое их движение.
Даже не так: он боялся, что откроет глаза и ничего не увидит. Ни шаркающих тапочек, ни серых домашних брюк, ни наброшенного на футболку полосатого халата. Папы нет уже пять лет. Этот сон всегда снится Севе утром первого января, и даже он успел стать скучным и рутинным.
– Кофе будешь? – послышалось с кухни.
Сева резко открыл глаза. Этого продолжения он не помнил. Говорят, если покойник зовет на кофе – скоро последуешь за ним; кажется, бабушка говорила, что дед зовет ее. А на следующий день позвонила сиделка и сказала, что бабушки больше нет. Можно ли хотеть собственной смерти? Сева не знал этого, но ощутил, что не боится ее. Будто бы давно уже мертв, и лишь по инерции опустевшее тело продолжает ходить на работу. Значит, если отец зовет, можно и подняться с дивана. Хотя бы во сне посмотреть на него, а дальше будь что будет. Смерть? Хоть какое-то разнообразие.
– На вот, с молочком. Святое дело после бурной ночки, – по комнате поплыл запах свежезаваренного кофе. Отец сел на свое любимое кресло и поставил две чашки – одну с кофе, другую с травяным чаем, на журнальный столик. Его чай не пах совсем ничем, а вот кофейный аромат отчетливо щекотал ноздри, побуждая немедленно сесть на диване и взять в руки теплую кружку.
– Быстро ты, – удивился Сева, с удовольствием втягивая забытый аромат хорошо сваренного напитка.
Сам он тоже неплохо варил кофе, но так, именно так, как у отца, никогда не получалось. Дело было в особенном оттенке аромата, в тонкой ноте вкуса… а может, в строгой температуре, к которой напиток приближался после добавления прохладного, но не ледяного молока? Сева пробовал все, но именно такой кофе никогда не получался.
– Быстро, да не быстро, – вздохнул отец, прихлебывая слабый чай из своей чашки. – Пять лет пришлось ждать.
Сева поперхнулся кофе.
– Что? Не ожидал, что я знаю?.. Да, я знаю, что умер. Знаю, что прошло уже пять лет, Севка, – отец улыбнулся. От молодых еще глаз лучиками разбежались тонкие морщинки. – Только вот упокоиться никак не получается.
Сева молчал. Слушал, попивая кофе: вкус и аромат напитка казался совсем настоящим, горечь, смягченная молоком, не обжигала языка, но бодрила и будто бы придавала сил. Совсем натурально, совсем по-настоящему – как если бы напиток существовал на самом деле, а не был плодом беспокойного полусна. Будто бы отец и правда сейчас сидит перед ним, хитро прищурившись, а не остался где-то в нормальном, живом Севином прошлом. Отец вдруг рассмеялся.
– Что? Как живой, а? Так я такой почти и есть, Севка. Настоящий, хоть и не очень живой. Ты пей, пей. Хороший кофе получился.
– У тебя он всегда отличный. Самый лучший, – Сева отставил чашку. – Но если не сон, то, значит...
– Не-не, – отец отставил чашку и замахал руками. – Ты не помер, не помер. Хотя если б и помер, никто бы не заметил. Живешь как леший в глухой чаще! – он развел руки в стороны, как бы показывая на выцветшие обои на стенах, давно не стиранные шторы и скромно примостившуюся в углу кучку несвежих носков. – Грибы на голове еще не растут, а? А если проверю?
– Так нормально же живу, – неожиданно для себя обиделся Сева. Ощущение уязвимой юности возвращалось и почему-то радовало. Вместо уставшего от жизни работяги он снова, хоть на какое-то время, но становился молодым парнем, недавно закончившим вуз. – Пылесошу, вон. И носки стираю, просто...
– Просто лень до ванны нести, да? Ох, Севка... мамка бы тебе быстро пояснила, куда носки кладутся, – отец вздохнул. – Ну, рассказывай, как докатился до жизни такой?
– Какой – такой?
– Вот такой, – он снова развел руки в стороны. – В квартире будто зверушка какая живет, а не мужик. Когда последний раз девушку приводил?
Сева вспомнил Татьяну, которая съехала четыре года назад. У нее были блестящие красные сапоги и родинка на правой лопатке, больше ничего о ней вспомнить не получалось. Он нахмурился и попытался вспомнить кого-то еще, но ничего, ни единой интрижки за последний год не вспоминалось. В потоке серых дней не находилось времени на поиски любви, да и желания на это уже давно не возникало. Признаваться в этом отцу было обидно.
– Вот, и я о том же. С друзьями не видишься, ничем не увлекаешься, ничем не занимаешься... Сына, ты так точно плесенью покроешься. И постареешь раньше срока.
– А когда увлекаться-то? Времени хватает только на работу и сон, – Сева сделал еще глоток кофе. – Прихожу в семь, в девять ложусь, к шести утра...
– Ну вот хоть книжку бы почитал, все лучше, чем киснуть перед телевизором, – отец усмехнулся. – Или хоть бы с интересом кис, так нет же: уставишься в экран, полторашку пива всосешь – и на боковую! Хрень это, Сева. Хрень, а не жизнь.
– Нет у меня другой, – обреченно отозвался Сева. Ощущение безнадеги, отступившее было, снова навалилось на него ватным телом, выдавливая все эмоции до последней. – И не будет уже. Не из тех я людей, которые...
Слово сорвалось с языка, беззвучно и беспощадно повисло в воздухе.
– Которые живут? Не смеши меня, – отец улыбнулся так, будто все-все знает заранее, включая содержание текущего разговора, но из вежливости позволяет Севе произносить свои реплики самостоятельно, хоть и не до конца. – Ты из людей, всем людям положено жить. А существовать вместо этого никому не положено.
– Если не существовать, жить тоже не получится, – Сева пожал плечами.
– Не паясничай, умник! Ты меня понял, – отец допил чай. – Вот что такое, по-твоему, жизнь?
Сева пожал плечами.
– Ну, противоположность смерти, в одном смысле, – отец загнул палец, внимательно глядя на Севу. Тот запнулся и отвел глаза, чтобы продолжить говорить. – В другом смысле противоположность неживому. В смысле, камню, например. Органика, во! Что там еще...
Больше ничего в голову не шло.
– Жизнь человека – его первейшее сокровище, Севка. И также главный инструмент, и самое важное занятие. Жить – твоя обязанность самим собой. Ты себе обязан. И жить надо полноценно. Ну или, хотя бы, с удовольствием.
Сева бросил взгляд в окно. Тяжелые комочки влажного снега, вопреки законам гравитации, зависли в воздухе. Летевший мимо голубь застыл, широко раскинув крылья, но тоже не собирался падать или двигаться с места. Почему-то это совсем не удивляло.
– Вот что тебе нравится? – спросил отец.
Сева пожал плечами и взглянул на него.
– Кофе, – бросил он. – Обожаю кофе, пап.
– Ну так за чем дело встало? – отец всплеснул руками. Широкие рукава халата покачнулись и сползли почти к локтям.
Руки у отца были такие, какими их помнил Сева – тонкими, сухими и болезненно-бледными. Двигался отец, однако, резвее и увереннее, чем когда-либо на его памяти. Будто в гриме едва живого мужчины, перенесшего инсульт (и умершего вскоре от второго) перед ним сидит его собственный ровесник, здоровый мужик лет тридцати.
– Кофе стоит денег, – Сева хмыкнул. – А деньги нужно зарабатывать на работе.
– И...
– Ну, я и работаю, – Сева пожал плечами.
– А кофе при этом много пьешь? – хитрая улыбка растянула потрескавшиеся губы.
Сева опустил взгляд, спрятал его на дне чашки, где-то в тонком слое кофейной гущи, оставшейся от любимого напитка. Отец беззлобно, даже понимающе усмехнулся.
– Вот, и я о том же. Себя нужно хоть чем-то радовать, сын. А ты этого не делаешь, вот и существуешь в четырех стенах, отшельником. Как забытый миром пенсионер. В тридцать-то лет!
– Я и так забытый всем миром, – неожиданно для себя огрызнулся Сева. – Никому не нужный. И мне тоже никто не нужен.
– Вот что я такое, Сев? – неожиданно спросил отец.
Он сложил руки на груди и выжидающе уставился на сына. Взгляд у него был хитрый, будто бы единственно возможный ответ, который Сева может дать, будет правильным. Для отца. В Севе взыграло чувство глупого, подросткового, тысячу лет как забытого протеста: захотелось сказать что-то другое, извернуться, чтобы избежать заготовленного предком нравоучения.
– Выглядишь как батя, а на деле – мой собственный похмельный сон.
– Ну, а раз так, то кто говорит через меня? – отец прищурился.
– Мое похмельное сознание?
– Твое сознание, сын. Ты сам устал так жить, вот и придумал этот разговор.
Дурацкая вера в чудо погасла. Фраза, сказанная отцовским голосом, заставила испариться без следа ощущение тепла в пальцах от чашки, кофейный вкус на языке и даже собственно образ отца будто бы поблек и выцвел. Он, чуть смазанный, оставшийся вне фокуса, замахал руками, привлекая внимание Севы.
– Эй, подожди ты, Севка! Дай хоть договорить, погоди просыпаться!
– Зачем? – бесцветно спросил Сева. – Я же сам тебя придумал. Я и так знаю все, что ты можешь мне сказать.
– Спорим? – расплывчатая фигура в отцовском халате сложила руки на груди. – Ну так слушай сюда. Сегодня ты встанешь с кровати и сделаешь зарядку. А потом позвонишь на работу и скажешь, что увольняешься.
– Если что?..
– Если она будет здесь, когда ты проснешься, – смазанная рука указала на теплую чашку с кофейной гущей. – Ну так что, спорим?
– А жить я на что буду?
– Сделай это для меня, Сев. Просто иди и сделай. Спор есть спор. Договорились?
Сева пожал протянутую руку, готовую вот-вот потерять всякие очертания. На ощупь она оказалась совсем как отцовская, еще давно, до болезни – сухая, крепкая, мозолистая.
– Ну давай, – фигура поднялась с отцовского кресла и пошаркала в сторону кухни. – А я прослежу, чтобы...
Сева открыл глаза.
За окном медленно падали крупные комья влажного снега. Дурацкая идея – увольняться. Жить-то на что тогда? Тем более, должность приличная, по специальности. Куда идти тогда, в баристы? Да кому он там нужен, с кислым-то лицом, с руками, ничего тяжелее компьютерной мышки не державшими. Ерунда. Бред.
Помимо своей воли Сева повернул голову туда, где обещана была кофейная чашка. Он запомнил ее: керамическая, с маленьким сколом над ручкой. И кофейная гуща на дне, ровным тонким слоем. И...
Она была там. На столике. Теплая на ощупь, с тонким слоем гущи, с ароматом того самого, правильного кофе. Что-то будто щелкнуло внутри; Сева подскочил, засуетился и принялся прикидывать, что же делать теперь, когда спор с мертвым отцом окончательно проигран. Позвонить начальнику, Семенычу, и уволиться?.. сколько там накопилось на зарплатной карте за пять лет сверхэкономного затворничества?
Должно хватить на курсы барист. И на жизнь на время их прохождения.
От нетерпения дрожали пальцы; Сева протараторил Семенычу "хорошие" новости, едва не сходя с ума от нетерпения, пообещал забежать после выходных за вещами и тогда же подписать заявление "по собственному", отрицательно ответил на просьбу, предложение и гневный приказ передумать, даже когда зарплата за несколько минут разговора выросла в полтора раза. Снедаемый нетерпением, он, возможно, единственный во всем мире ждал окончания праздничных выходных, отмывая квартиру, смазывая скрипучие дверные петли, перестирывая накопившиеся вещи… Отмылся, побрился, сходил в парикмахерскую. На курсы пятнадцатого января отправлялся совершенно другой человек: он начистил новенькие ботинки, поправил аккуратное зимнее пальто и решительно шагнул за порог. Это был не тот Сева, что существовал последние пять лет – он снова почувствовал себя живым. И чертовски, постоянно, невероятно занятым.
В голове заела какая-то глупая песенка; Сева машинально напевал ее себе под нос, ковыряя ключом замочную скважину. И совершенно внезапно среди воодушевленных, безумно радостных мыслей возникло непрошенное воспоминание.
Кофе. Та чашка, с которой все это началось, та, на которую он спорил с отцом. Это же он сам себе и налил! Он, сквозь сон, машинально поднялся с кровати и пошел на кухню, все еще «беседуя» с отцом. Сварил кофе, налил в чашку, выпил… и только тогда проснулся. И счел, что чашку принес дух отца! Каким же он был идиотом! Нет никакого обещания, никакого спора не было. Все это – результат дурацкого похмельного сна.
Стабильная работа по специальности, хорошо знакомый маршрут до затертого офисного здания, даже стоптанные ботинки и старый пуховик остались в прошлом. Может, позвонить Семенычу, попроситься назад? Он, вроде, хотел повысить Севе зарплату. А ботинки, возможно, все еще стоят возле мусорного ящика – можно забрать их обратно, хорошие же еще, хоть и порядком стоптанные…
«Ну уж нет», – решил Сева. И уверенно повернул ключ в замочной скважине.